Размышления о душе и её воспитании
|
|||||||||||||
(Час Души)
Вместе с естественным чувством благодарности за приглашение, позвольте сделать некоторые вступительные замечания. Мне кажется, что проблеме воспитания души в Японии уделяется больше внимания, чем в моей стране. Это не комплимент, не дань вежливости гостя. Причина, видимо, состоит в том, что в Японии прогресс и наука более органично сочетаются с традицией и искусством. Так же органично слиты материя и дух, природа и культура. Порой, их вообще трудно различить. Правда, японский философ Т. Имамичи пишет о том, что японцы изменились внутренне под влиянием машин и технологии: “Механическое окружение, технологическое единообразие как новый способ коллективной идентификации — это искусство уничтожения личностных характеристик, поскольку ультрасовременные технологические аппараты управляются не чьей-то личностью, а пальцами” (1995, с. 82).
И все же на нашем собрании я больше получу, чем смогу дать. Надеюсь, что мое сообщение представит для вас определенный интерес, так как в нем я, помимо основного содержания, поделюсь своими впечатлениями о японском опыте воспитания души. Иногда со стороны виднее.
***
но ищи то, что искали они
Кобо-дайси
1. Воспитание души — вызов психологии
Воспитание души — вечная проблема. Каждое новое поколение людей ищет свои пути ее решения. И то, что человечество все еще существует, — лучшее свидетельство тому, что такие пути, в конце концов, отыскиваются. Другое дело, осознание найденных путей. Известно, что люди сначала научаются ходить, а потом задумываются над тем, как им это удалось. Если задумываются?! Такова же ситуация и с воспитанием души, с проблемой, которую мы сегодня обсуждаем.
Психология не может похвастаться успехами в ее решении, так как психологи почти 150 лет тому назад начали расчленять душу на отдельные функции в целях их объективного изучения. Они успешно продолжают это интересное занятие до сих пор. Попытки собрать душу воедино редки и малоуспешны. “Сущее не делится на разум без остатка” (В. Гете) и измерить алгеброй гармонию еще никому не удалось. До сих пор остается верной оценка психологии, данная русским историком В. О. Ключевским в начале XX в.: раньше психология была наукой о душе, а теперь стала наукой об ее отсутствии. Душа оказывается в остатке, по поводу чего психология проявляет полное равнодушие, не испытывает угрызений совести, ибо и она сама не страдает от избытка души.
Не развивая этот печальный историко-научный сюжет, скажу, что я, как психолог, работающий в науке 50 лет, впервые, видимо, как подарок к своему 70-летию, получил и принял предложение выступить с докладом по моей прямой специальности. Должен признаться, что это и самая трудная задача по сравнению с теми, которые мне приходилось решать до этого. Если бы мне удалось ее решить, что весьма сомнительно, я мог бы вслед за Катсусико Хокусаи повторить слова, написанные в его знаменитом Завещании: Все, что я сделал до 70 лет, не стоит считать. Тема “Воспитание души” может рассматриваться как вызов всей академической психологии, который она, возможно, примет, достигнув соответствующего духовного возраста. Или последует примеру философов, уже начавших возвращать душу в свой дискурс о бытии и сознании, о познании и деятельности. Ф. Т. Михайлов интересно размышляет об основании единства всех сил души, участвующих в осознании Бытия, о том, что разделяет и объединяет в людях интуицию, воображение, интеллект, высшие эмоции и аффекты, нравственное чувство и волю (1999, с. 34).
Для обсуждаемой темы существенно, хотя и спорно, что с точки зрения романтического философа (есть такие в России!) главной силой души является фантазия. Я думаю, что память имеет на это не меньше прав. Августин называл три способности души: Память, Рассудок и Волю.
Память души отличается от исторической памяти. Первая не столько хронологична, сколько структурна, синхронистична. Это память — традиция, которая, конечно, не вечна, но она меняется, подвергается реконструкциям и разрушениям существенно медленнее, чем историческая память. Л. Скаккабароцци приводит определение традиции, данное К. Родольфо: “Это то, что может, никогда и не происходило, но могло бы быть и может еще случится в будущем”, и следующим образом комментирует его. “История и традиция при том, что эти два понятия могут показаться синонимами и иметь общий предмет интереса (т. е. прошлое), — при более глубоком изучении обнаруживают абсолютно противоположный смысл. Традиция, в отличие от истории, указывает на будущее, о чем свидетельствует и латинская этимология (traditio om tradere — передавать). А что можно передать, если прошлое разрушено?” (1966, с. 213). И действительно, история нередко деформирует не только свое собственное прошлое, но и традицию, деформирует и душу. А душа, часто из последних сил, сопротивляется истории, претерпевает и преодолевает ее. И все же истории ни прошлой, ни, надеюсь, будущей не удается разрушить душу или исковеркать ее окончательно, хотя она, порой, прилагает к этому огромные усилия, пытаясь создать, например, “нового человека”. Именно в этом смысле душа есть чудо. В каждом новом поколении людей душа возрождается, так как в каждом из них всегда находятся “хранители очага”, испытывающие любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Благодаря таким людям, обладающим скромной и неодолимой душой, а вовсе не школьной истории, не прерывается связь времен.
Приведенные размышления об истории и традиции имеют самое непосредственное отношение к психологии. Психика и сознание может быть не всегда культурны, но, наверняка, историчны. Душа более устойчива и ее память менее подвержена историческим влияниям, благодаря чему эстафета человечности передается через самые глухие и мрачные исторические эпохи. В отличие от памяти души, история, как известно, учит только тому, что она ничему не учит. К тому же история слишком часто лжива, ибо “история — это история выживших” (Эм. Левинас). Ироничный М. Я. Гефтер приравнял постулат лживости послехристианской истории к общей теории относительности. История, при всей своей лживости, кокетничает тем, что она не знает сослагательного наклонения. Традиция не стесняется говорить о том, каким могло бы быть будущее, если бы ею не пренебрегли.
Я не хочу сказать, что душа принадлежит к натуральным феноменам в смысле феноменов натуральной психики в культурно-исторической психологии в варианте Л. С. Выготского. Речь идет о том, что душа, в отличие от психики и сознания, всечеловечна, внеисторична, если угодно, архетипична. В ее эмоциональной памяти хранятся общечеловеческие, внеисторические ценности и смыслы. Другими словами, душа причастна к абсолютному, к истине. Она не столько развивается, сколько раскрывается, для чего могут иметься более или менее благоприятные условия, о которых разговор будет далее. Сейчас лишь скажу, что важнейшим посредником между душой и абсолютным является искусство, не только понимающее, но и создающее язык души. Ты, память муз, всего причина. Бурный сократовский анамнезис (припоминание) есть возвращение не к истории, а к истокам, благодаря чему, например, поэты провидят будущее.
Психологию, конечно, можно и нужно укорять по поводу отказа от изучения души. Она виновна, но заслуживает снисхождения, которого, впрочем, не ищет. Раскрыть механизм чудесного, взять приступом абсолютное еще никому не удавалось (не только в области психологии). Приблизиться к пониманию души пока удается лишь литературе и искусству. Возможно это удастся и науке, если она извлечет накопленный ими опыт.
2. Искусство — символический язык души
Значительно большую (по сравнению с психологией), помощь в обсуждении проблемы воспитания души может оказать искусство. Хотя искусство не утруждает себя доказательствами, но, в том что касается души, смысла в нем больше, чем в науке. С него и начну, а затем, обращусь к психологии. Несмотря на суровую критику, которой психология была подвергнута выше, игнорировать ее достижения не разумно. Размышления о душе без психологии, столь же ущербны, как и психология без души.
Возьмем в качестве примера малую и бесконечно богатую смыслом форму хайку Мацуо Басё (см. рис. на обложке):
Прыгнула в воду лягушка.
Всплеск в тишине.
Не могу удержаться, чтобы не привести в параллели хайку Басё стихотворение, написанное семнадцатилетним Осипом Мандельштамом в 1908 г: (рис. 1)
Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с древа,
Среди немолчного напева
Глубокой тишины лесной...
Та же малая и бесконечно богатая смыслом форма. Мне трудно сравнивать эстетическую выразительность обеих форм, но смысл их удивительно близок. С Басё и Мандельштамом перекликался Борис Пастернак, смотревший на пруд в саду как на явленную тайну и слышавший как шепчет яблони прибой (1912, 1928). Марина Цветаева в двух строчках, адресованных БЛОКу, с помощью того же всплеска в тишине выразила казалось бы нечто совершенно конкретное:
Камень, кинутый в тихий пруд,
Всхлипнет так, как тебя зовут.
(1916)
Но за этим конкретным для Цветаевой скрывалось огромное содержание, которое она выражала в 16-и стихотворениях, а потом и в прозе, посвященной Александру Блоку. Цепь подобных поэтических ассоциаций может быть бесконечной. За двумя строчками Анны Ахматовой скрывается не только Александр Блок, но и Петербург, которые в ее сознании символизируют друг друга:
Он прав — опять фонарь, аптека,
Нева, безмолвие, гранит...
(1946)
А. Ахматова верно заметила:
... может быть поэзия сама —
Одна великолепная цитата.
Именно это я старался продемонстрировать приведенной выше перекличкой замечательных поэтов, постепенно переходя от старого пруда Басё к старому, великолепному, сегодня почти неправдоподобному Петербургу Блока и Ахматовой.

Рис. 1. О. Мандельштам
Вернемся к хайку Басё. Поэт знал, что в этом семнадцатисложном стихотворении его духовный опыт приобрел совершенную форму выражения. Форма, действительно, изящна, проста и естественна. Она подчинена эстетическим принципам поэта. Главные из них: изящная простота, ассоциативное сознание гармонии прекрасного, глубина проникновения в беспредельность мира, недосказанность, а, возможно, сверх-сказанность, обеспечивающая свободу понимания и интерпретации. Его творчество — результат одухотворенного истинного созерцания, которое, — согласно Канту, — производит “чувственные понятия”, а, — согласно Гегелю, — схватывает субстанцию предмета во всей ее полноте (1929, с. 251). Подобное возможно, так как высшие формы созерцания обеспечиваются действием силы продуктивного воображения и творческой фантазии. Гёте называл такой вид творчества “созерцательной способностью суждения”, благодаря которой человек в единичном явлении может увидеть всеобщее. Результат созерцания — образ — ви’дение есть нечто большее, чем простое восприятие. Молодой, еще наивный О. Мандельштам в 1911 г. даже оптимистически заявил: Обман в ви’дении немыслим. Для такой веры имеются основания, так как слишком многое из провидческого в искусстве подтверждалось. Ви’дение носит преимущественно чувственный характер и выливается в произведение искусства.
В приведенном хайку Басё японская душа узнает философию поэта, его одиночество, суровое душевное спокойствие и многое другое. Вот что, например, увидел в нем Акутагава Рюноскэ: “Лягушка, прыгнувшая в старый пруд в саду, разбила столетнюю печаль. Но лягушка, выпрыгнувшая из старого пруда, может быть наделена столетней печалью”. Разумеется, не только в хайку, но и в других произведениях искусства наблюдается неожиданное сочетание, точнее, столкновение разных образов, рождающее новый смысл, способствующее возникновению озарения, мгновенной вспышки сознания читателя. В свое время, С. Эйзенштейн обратил внимание на то, что подобное наблюдается в сложносоставных японских иероглифах. При столкновении образов рождается сатори, похожее на “распустившийся цветок ума”. И этот цветок оказывается не внутри, а снаружи. Об этом же писал О. Мандельштам: Что делать, самый нежный ум весь помещается снаружи.
Казалось бы, простой факт Басё превращает в обобщенный образ, в символ, который остается, впрочем, вполне реалистическим. Басё умел как бы войти в предмет и выразить свое видение предмета изнутри с гениальным лаконизмом. Поэт, — говорил Басё, — должен стать сосной, в которую входит человеческое сердце. Такое видение изнутри и есть сатори. Достижение озарения — сатори это — большой труд.
... И как хорошо мне и тяжко,
Когда приближается миг —
И вдруг дуговая растяжка
Звучит в бормотаньях моих.
№ 2. 1933—1934. гг.
Дуговая растяжка, слышимая в бормотаньях поэта, сродни вспышке молнии, которая и порождает, и освещает совершенную форму. И хотя последняя внешне проста, за ней скрывается глубочайшее внутреннее содержание. Поэтический прозаик М. М. Пришвин писал, что “моя задача показать в природе прекрасные стороны человеческой души”. Выражаясь словами В. В. Кандинского, художник облекает в формы природы душевные состояния или настроения. Поэтому подлинное произведение искусства создается на языке души! В. Хлебников сказал: черти не мелом, а любовью! По словам И. Бродского, сбывшаяся душа приводит в движение душу оформляющуюся. Трудность осмысления задачи воспитания души состоит в том, что оформившаяся душа приводит в движение душу оформляющуюся не прямо, а каким-то таинственным косвенным, гибким путем. И делает она это, конечно, не только посредством произведения искусства, но и посредством слова, жеста, собственного живого движения, улавливаемого другой душой. Значит, душа выявляется во взаимоотношениях между людьми. Возможно, она и располагается между ними. Порой, души сливаются воедино. Чтобы такое произошло, необходим совершенно особый тип общения, в котором нет места самоутверждению партнеров. У них должна быть выработана доминанта (пристальное внимание) на лицо другого человека. Это, — согласно А. А. Ухтомскому, — не эмпирическое общение, а сосредоточенное собеседование с другим лицом, следствием которого является сочувственное понимание, проникающее до глубины души. Условием такого собеседования, как и всякого обучения и воспитания, должен быть союз души и глагола (М. Цветаева). В русском языке глагол — это и слово и действие, о чем говорит и знаменитое, пушкинское: глаголом жечь сердца людей. Такое возможно благодаря “гулким душам русских глаголов” (В. Набоков).
Поэзия, как и искусство в целом, символичны. А живой символ также имеет простую внешнюю форму и безграничное внутреннее содержание. Например, для раскрытия внутреннего содержания христианского символа креста не хватило 2000 лет, на протяжении которых это пытаются сделать все виды христианского искусства. Это не должно удивлять, так как крест — символ человека, распятого на собственном образе, символ его страданий, смерти, воскресения, вечной жизни, любви (“Слишком многим руки для объятья / Ты раскинешь по концам креста”. — Б. Пастернак) и много другого. Символ одновременно материален и идеален. Он сам вещь и идея, и потому только через него вещь может стать идеей, а идея вещью. В символе фиксированы все три цвета времени: прошлое, настоящее и будущее, поэтому в нем заключены не только образ и идея времени, но и представление о вечности. Символ допускает свободу понимания и интерпретации, и всегда, как и произведение искусства, символ полностью невыразим в понятиях и недосказан. Символ, в отличие от понятия, несет в себе не столько значения, сколько смыслы. Он обладает также эйдетической энергией. Подобными свойствами обладает и произведение искусства, и сам человек! Об энергийности образов искусства замечательно сказал О. Мандельштам: наши классики это — пороховой погреб, который еще не взорвался.
Подлинное произведение искусства замечательно тем, что в нем присутствует душа художника, вложенная им при его создании. И. Бродский даже называл стихотворения фотографиями души, по которым можно проследить не только стилистическое развитие, но и развитие души самого поэта. Такие “фотографии” становятся доступными читателю. Поэт ожидает этого. Прислушаемся вновь к Мандельштаму, у которого за внешней иронией скрывается желание быть прочитанным и понятым:
И может быть в эту минуту
Меня на турецкий язык
Японец какой переводит
И в самую душу проник.
(1933)
Всматриваясь в душу поэта, читатель может заинтересоваться не только его душой, но и своей собственной. Напомню У. Блейка, который говорил, что поэзия учит тому, чтобы обращать глаза внутрь самого себя, вглядываться в собственную душу.
3. Душа — дар моего духа другому человеку
Платон характеризовал каждый истинный акт большого искусства как предельную сосредоточенность, сведение в одной точке всех сил ума, воображения, памяти, чувства и воли. Подобная сосредоточенность описывается в таких терминах, как вдохновение, одержимость, неистовство. Главное свойство истинного искусства, — согласно Платону, Л. Н. Толстому, Ж. Гюйо, — состоит в способности его произведений притягивать (как магнит), захватывать, заражать и заряжать людей вложенными в эти произведения чувствами и энергией. В подобных описаниях весьма точно характеризуются внешняя картина воздействия искусства на человека.
В. В. Кандинский сделал следующий шаг. Он утверждал, что всякое произведение искусства есть дитя своего времени, часто оно и мать наших чувств: «Истинное произведение искусства возникает таинственным, загадочным, мистическим образом “из художника”. Отделившись от него, оно получает самостоятельную жизнь, становится личностью, самостоятельным духовно дышащим субъектом, ведущим также и материальную жизнь; оно является существом <...> оно как каждое существо, обладает дальнейшими созидательными, активными силами. Оно живет, действует и участвует в созидании духовной атмосферы...» (1992, с. 99). Духовная атмосфера, в свою очередь, необходима для созревания и очеловечивания чувств. Кандинскому вторил А. А. Ухтомский: песни Петрарки и Данте стали определителями поведения для дальнейшего человечества. В этом же духе размышлял и Л. С. Выготский. Он также считал, что аффективно-смысловые образования человеческого сознания существуют объективно вне каждого отдельного человека в виде произведений искусства или в виде каких-либо других материальных творений людей. Он подчеркивал, что эти формы существуют раньше, чем индивидуальные аффективно-смысловые образования. Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, Б. Д. Эльконин называют эти объективные аффективно-смысловые образования, существующие до и вне развивающегося индивида, идеальной формой, которая усваивается и субъективируется в процессе индивидуального развития, становится реальной формой психики и сознания индивида.
Таким образом мало кто сомневается, что искусство — одно из важнейших средств воспитания души, поскольку в нем эстетическими средствами выражается духовный и этический опыт человечества. Искусство — это дотеоретическая этика — этика в действии, а не в назидании. Искусство практически вводит человека в мир человеческих ценностей, чего, к сожалению, нельзя сказать о науке. Не просто восприятие, а активное восприятие и созерцание произведений искусства есть начало духовной практики. Мой учитель — детский психолог А. В. Запорожец так описывал эволюцию поведения детей-дошкольников в театре: со-присутствие, сочувственное со-действие, со-чувствие, со-переживание. В итоге соприсутствие превращается в симпатическое со-участие или, в со-причастие, из которых может вырасти со-мыслие и эстетическое отношение к происходящему на сцене. Все эти стадии, благодаря детской непосредственности, отчетливо наблюдаемы. Обратимся к вопросу о механизмах влияния искусства на человеческую душу.
Конечно, перед обсуждением этой вечной проблемы следовало бы дать определение души. Но у меня достаточно скромности (и чувства юмора!), чтобы этого не делать ни в русской, ни в японской аудитории. Ограничусь очевидным: “Душа это — дар моего духа другому человеку” (М. М. Бахтин). Хорошо, когда у дарителя есть что и кому дарить. А между тем младенцы, практически, с рождения взыскуют (жаждут) общения с человеческой душой. Это хорошо иллюстрирует исследование Ф. Салапатека. На рис. 2 показаны траектории движения глаз младенцев одно- и двухмесячного возраста, регистрирующиеся при рассматривании человеческого лица. Если младенец месячного возраста смотрит на лицо как парикмахер, двигаясь по его внешним контурам, то всего лишь через месяц фиксации его глаз сосредоточены преимущественно на глазах и губах взрослого. Он смотрит в глаза как в зеркало человеческой души и, возможно, пытается найти в них свое отражение. Это не просто пассивное наблюдение. По многочисленным данным разных авторов первая человеческая улыбка появляется у младенцев на 21 день от роду. Столь ранняя, подмеченная А. С. Пушкиным способность
улыбку уст, движенья глаз
ловить влюбленными глазами,
сохраняется очень надолго. Детская улыбка — это благодарный отклик на душевное расположение взрослого. К большому сожалению, последнее не всегда встречается.
Мифотворческая фантазия Платона породила замечательный образ души, которую он уподобил соединенной силе окрыленной пары коней и возничего. Возничий — разум; добрый конь — волевой порыв; дурной конь — аффект (страсть). Если какой-либо из атрибутов души отсутствует, душа оказывается ущербной. Например, Л. Н. Толстой писал, что полководцы лишены самых лучших человеческих качеств — любви, поэзии, нежности, философского пытливого сомнения. Наличие всех трех атрибутов души: разума, чувства и воли не гарантирует ее богатства. Глубокий ум, высокий талант, замечательное профессиональное мастерство могут быть отравлены завистью, гордыней, которые опустошают душу, убивают дух. Может быть платоновской соединенной силе не хватает крыльев?! Подобное объяснение красиво, но его трудно принять в качестве определения. Но из него следует, что душу нельзя свести к познанию, чувству и воле. Душа — это таинственный избыток познания, чувства и воли, без которого невозможно, их полноценное развитие. Напомню язвительное замечание Б. Пастернака: талантов много — духа нет.
4. Духовный организм и его функциональные органы
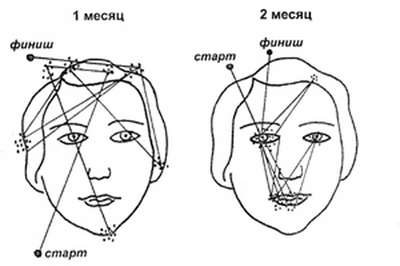
Рис. 2
Русский мыслитель А. А. Ухтомский в начале XX в. сформулировал дерзкий замысел: познать анатомию и физиологию человеческого духа. Ему принадлежит идея функциональных (не анатомических!) органов индивида и его духовного организма. Согласно А. А. Ухтомскому, функциональный орган это — всякое временное сочетание сил, способное осуществить определенное достижение. (Еще раз вспомним соединенную силу в метафоре души Платона.) Такими органами являются движение, действие, образ мира, психологическое воспоминание, состояния человека, например, сон, бодрствование, аффект, даже личность. В своей совокупности они и составляют (строят!) духовный организм. Значит, по мысли Ухтомского духовный организм это есть энергийная проекция человека (сочетание сил). Разумеется, функциональные органы существуют виртуально и наблюдаемы лишь в исполнении, т. е. в действии, в поступке. Виртуальность их бытия прекрасно выразил О. Мандельштам в стихотворении “Автопортрет”
В закрытьи глаз, в покое рук
Тайник движенья непочатый.
(1914)
Виртуальность, в смысле А. А. Ухтомского, или тайник, в смысле О. Мандельштама, есть недеяние, представляющее собой, активный покой, зазор длящегося опыта, своего рода точки развития и роста, т. е. — внутреннее деяние. Из таких точек (периодов, пауз, зазоров) произрастают внешние деяния и действия, они в них же и возвращаются. Возможно, это близко к тому, что в даосизме называется “возвращением к истокам”, а в европейской культуре — рефлексией.
Убедительную иллюстрацию наличия функциональных органов я встретил у русского писателя В. В. Набокова. Он, проживший большую часть жизни вне России, так описывал память эмигрантов: “... память о России у людей пожилых, застрявших заграницей собственной жизни, превращается либо в необыкновенно сильно развитый орган, работающий постоянно и своей секрецией возмещающий все исторические убытки, либо в раковую опухоль души, мешающую дышать, спать, общаться с беспечными иностранцами...”. На эту же тему у В. Набокова встречается почти сюрреалистическое описание состояния повышенной восприимчивости, которая преображала все существо (описываемого персонажа) в одно огромное око, вращавшееся в глазнице мира. Это похоже, на полностью отделившийся от героя гоголевский Нос. Наконец, Набоков использует еще одну не слишком эстетическую метафору: ум — желудок души, то есть тот же орган. Совершенствование функциональных органов не знает отчетливых границ. И. Бродский говорил: Взгляд острей, чем игла. Спиноза был прав: “То, к чему способно человеческое тело, никто еще не определил”.
Дм. Пригов в книге “Только моя Япония” пишет, что ему для восприятия Японии пришлось отращивать новые временные росточки чувствительности, экзистенциальные щупальца, чтобы присосаться к новой, полюбившейся ему культуре. Говоря словами О. Мандельштама, индивида к созданию новых органов влечет стесненная свобода одушевляющего недостатка. Близок по смыслу прозаический термин Жоржа Батая: “избыток недостатка” — непременное свойство человеческого существа. Избыток недостатка есть неутолимость “тела” человеческих желаний, в том числе и духовных: духовной жаждою томим! Конечно, для того чтобы уменьшить избыток недостатка, необходимо иметь избыток возможностей и обладать энергией преодоления (уменьшения асимметрии между избытком недостатка и избытком возможностей). Благодаря такой энергии, человек строит новые органы и функции, “душой и сознанием намеченные” (И. Г. Фихте). Замечание философа очень точно в нем подчеркивается наличие разницы между функциональным органом и душой. Первые можно сформировать. Альбрехт Дюрер, например, говорил, что у художника, после усвоения правил и мер в работе, в глазу должен появиться циркуль и угольник, а в руках — рассудительность и навык. Они могут оказаться и вне души. Душа — это иное. Она не формируется извне, по заказу, а выявляется, раскрывается, приводится в движение, оформляется или... закрывается, освобождается от внешних влияний.
Оставлю в стороне вопрос о принадлежности функциональных органов. Не столь важно, принадлежат ли они индивиду или его душе. Главное, что они составляют духовный организм, увеличивают силы и способности души.
Формирование функциональных органов — трудная задача. Приведу суждение об этом русского актера Михаила Чехова: “Как чужого, я должен учиться себя наблюдать и рассматривать тело свое, как чужое, как инструмент. Пока я не знаю тело свое, как чужое, оно мной управляет на сцене, а не я им.
То же и с голосом. То же и со словом. <...> Пусть узнает актер, что тело его, его голос и мимика, слово его, все это в целом — его инструмент. Пусть он слушает голос свой со стороны, и тогда он узнает его и им овладеет; пусть он внимательно смотрит со стороны на себя, и он овладеет своими движениями; пусть произносит (и слушает) слово, как музыку, — он научит себя говорить.
Пусть наслаждается легким движением руки, корпуса, ног, пусть движения “бесцельные” сделаются радостью творческой. Пусть оценит, полюбит движение как таковое. Он поймет, что движения, как буквы, как люди, бывают различны и носят в себе и особый характер, и силу, и мягкость, вдумчивость, действенность, могут выразить и симпатию и антипатию — и все это без головного, мертвящего смысла, но все из себя, то есть движение как вдумчивость или движение как антипатия или симпатия. Пусть полюбит не тело свое, но движение, которое он совершает при помощи тела, ставшего инструментом и объективным орудием для совершения движений. Это пробудит в актере способность играть все всем телом.”
Близкие по смыслу описания преобразования, претворения движений встречаются у режиссеров В. Э. Мейерхольда, А. Я. Таирова, Л. С. Курбаса и у ученых Г. Г. Шпета, Н. А. Бернштейна, А. В. Запорожца. Живое движение в результате подобных преобразований достигает такой степени одухотворенности и совершенства, что их телесная биомеханика как бы исчезает. Например, в балете остается пушкинский Душой исполненный полет.
Сказанное Михаилом Чеховым относится к актеру. Но аналогичные требования нужно предъявить и к зрителям. Эстетическое восприятие это тоже функциональный орган, который должен сформироваться в том числе и для того, чтобы уметь читать движения актера. Глаз телесный должен стать глазом духовным или оком души. То же происходит и с восприятием музыки и других форм искусства.
Не давая определения души, зафиксирую, что душа и дух есть реальность. Они не менее объективны, чем так называемое объективное, например, материя (в философском смысле). Подобное утверждение было бы смешно, если бы не было так грустно. Как говорилось ранее, психология в свое время пожертвовала душой ради объективности, как тогда казалось, своей субъективной науки.
Функциональные органы, — согласно А. А. Ухтомскому это — не механизмы первичной конструкции. Они представляют собой новообразования, возникающие в жизни, деятельности индивида, в процессе его развития и обучения. Понятие “новообразование” широко использовали многие философы и психологи, в том числе Л. С. Выгодский, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев. Дж. Келли назвал их персональными конструктами. Но все перечисленные ученые, характеризуя функциональные свойства новообразований, не замечали их энергийную природу и суть, о которой писал А. А. Ухтомский, хотя и понимали, что их создание — главный признак развития человека.
5. Внешние и внутренние формы психического
Обращу внимание на то, что физиолог А. А. Ухтомский не помещал функциональные органы ни в тайны мозга, ни в глубины бессознательного. Он, вообще, не использовал дихотомию внешнего и внутреннего, ставшую привычной для психологии. Кажется естественным отождествлять внешнее с видимым, внутреннее с невидимым и на этом основании считать действие внешним, а образ или сознание внутренним.
Психологи, да и не только они, не прислушивались к завету Гете:
Что — внутри, во внешнем сыщешь;
Что — вовне, внутри отыщешь.
(“Эпирремма”)
Понятно, что требование наблюдаемости к функциональным органам, имеющим энергийную природу, существующим виртуально, является избыточным. Если воспользоваться традиционной дихотомией внешнего и внутреннего, то функциональные органы следовало бы поместить в пространстве “между” — между внешним и внутренним. Именно, благодаря своему пограничному положению, такие, например, органы индивида как движение, действие, образ, слово имеют и свое внешнее, и свое внутреннее. В этом можно разбираться бесконечно, если не определить или не уточнить расплывчатые понятия внешнего и внутреннего. В культуре это, не без влияния Гете, было сделано В. Гумбольдтом. Гумбольдт ввел понятия внешней и внутренней формы и использовал их для характеристики человека, произведения искусства и языка. Акутагава говорил, что посредственное произведение, даже внешне монументальное, похоже на комнату без окон. Из нее нельзя выглянуть в жизнь. Но в нее нельзя и проникнуть снаружи. Такое произведение лишено внутренней формы, или она темна. Если необходим образ, то внутреннюю форму можно представить как тончайший мир, как сущность, что невидимо присутствует, как то, что греки называли “эйдосом”, а китайцы — “ли”. Не излагая учения Гумбольдта о внешней и внутренней формах, развитого в России Г. Г. Шпетом, проиллюстрирую возможность его применения к функциональным органам — новообразованиям.
Действие индивида может рассматриваться как внешняя форма, имеющая в качестве внутренней формы образ ситуации, в которой оно осуществляется, и образ действия. Во внутреннюю форму действия может входить и слово. В свою очередь, образ мира, рассматриваемый как внешняя форма, может содержать в своей внутренней форме действие, с помощью которого он строился, и слово. Наконец, слово, рассматриваемое как внешняя форма, может содержать в своей внутренней форме, действие и образ. Во всех перечисленных случаях внутренняя форма оказывалась виртуальной, а форма внешняя — вполне реальной. Легко заметить, что слово, действие, образ выступают то в роли внутренней формы, то в роли внешней формы, что позволяет сделать общий вывод об обратимости внешних и внутренних форм. Невидимая внутренняя форма превращается в видимую, а последняя, в свою очередь, становится невидимой. Нечто подобное происходит с действием и страстью, с мыслью и словом. Аналогом внутренней формы у В. В. Кандинского является внутренняя необходимость, у А. Эйнштейна — внутреннее оправдание, которое до конца не рационализируется.
Осталось сказать, что действие, образ, слово, чувство, мысль, воля, то есть все то, что объединяется понятиями “психические процессы” или “психические акты”, представляют собой живые формы. А раз живые, то, следовательно, активные, содержательные, незавершенные, беспокойные... Как душа!
Каждая из них не является “чистой культурой”. Одна форма содержит в себе другие. Работает принцип: “Все в одном, одно во всем”, что не мешает их относительно автономному существованию. Последнее возникает благодаря развитию живых форм. Например, за деянием возможен активный покой, недеяние, которое не является пустым. Оно может быть занято созерцанием настоящего, погружением в себя, переживанием и осмыслением прошлого, рождением представлений о будущем. Для Фихте созерцание было синонимом деятельности.
Если отвлечься от относительно автономного существования некоторых живых форм, то взаимодействие внешних и внутренних форм можно наглядно представить с помощью ленты Мёбиуса. Вообразим, что движение — внешняя форма действия — это — свойство лицевой поверхности ленты Мёбиуса, а страсть, образ действия — внутренние формы действия — это — свойство ее изнанки. Но лента Мёбиуса это — скручиваемая, переворачиваемая поверхность, где внешнее по мере продвижения по ней оказывается внутренним, а внутреннее — внешним. Этот образ, наглядно представленный в картине К. Хокусаи “Бочар” (рис. 3) и в картине Эшера “Кожура апельсина” (рис. 4), облегчает понимание жизни целостных форм, каждая из которых представляет собой множественное гетерогенное новообразование, каким и является функциональный орган индивида. В нем скрытое и явное, взаимодополняясь, образуют одно целое. Гетерогенность новообразований зафиксирована во множестве поэтических метафор: “умное делание”, “око души”, “поэтические органы чувств”, “органы чувств-теоретики”, “живописное соображение”, “разумный глаз”, “глазастый разум”, “зрячих пальцев стыд” и т. п.
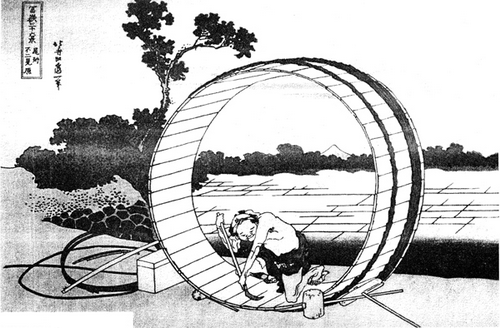
Рис. 3. К. Хокусай “Бочар”
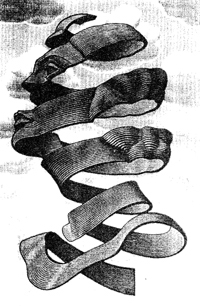
Рис. 4. М. Эшер “Кожура Апельсина”
Этот длинный экскурс в психологию вызван тем, что психологические акты, о природе и некоторых свойствах которых шла речь выше, единосущны с душой. Их развитие увеличивает идеальное тело души, расширяет и наполняет ее внутреннее пространство. В свою очередь, благоприятное состояние души, полной чувств, можно рассматривать как таинственное условие контекст, и источник развития функциональных органов — новообразований.
То, что говорилось о внутренних и внешних формах в контексте психологии, относится и к человеку в целом. Человек, как и произведение искусства, как символ, как любой психический акт также имеет внешнюю и внутреннюю формы. Сказанное о человеке не претендует на оригинальность. Русский философ Н. А. Бердяев в начале XX в. уподоблял человека символу. А. Ф. Лосев усилил и уточнил это положение. Личность, — по Лосеву, — это миф, то есть вещественная, телесная осуществленность символа. Осуществленное — значит добытое трудом, в деятельности. Тогда же русский философ П. А. Флоренский говорил о том, что человек это — не факт, а акт. Притом, акт незавершенный, что прекрасно иллюстрируется упомянутым выше Завещанием Хокусаи, где он наметил перспективу ближайшего и бесконечного развития своих живописных способностей: “... в 90 лет я проникну в тайну вещей, к 100 годам я сделаюсь прямо чудом, а когда мне будет 110 лет, каждая точка, каждая линия — все будет живым” (Денике Б. П., 1936, с. 123). Избыток видения, которого в неустанном труде добивался художник, есть почка, где, — по словам М. М. Бахтина, — дремлет форма и откуда она и развивается как цветок. Но чтобы эта почка действительно развернулась цветком завершающей формы, необходимо, чтобы избыток моего видения восполнял кругозор созерцаемого другого человека, не теряя его своеобразия (1994, с. 106—107). Таким образом, в акте творчества подразумевается вчувствование в другого человека, скрытый диалог с ним и восполнение кругозора другого своим избыточным видением. И вместе с этим — развитие своего собственного видения. Дм. Пригов пишет, что “у японцев сохранилось еще архаическое чувство и привычка визуальной созерцательности, когда длительность наблюдения входила в состав эстетики производства красоты и ее восприятия. Считалось, что вообще-то истинное значение предмета и явления не может быть постигнуто созерцательным опытом одного поколения. Только разглядываемая в течение столетий и наделяемая через то многими, стягивающимися в один узел смыслами и значениями, вещь открывается в какой-то, возможной в данном мире полноте” (2000. с. 170—171). Хорошо бы такое “архаическое чувство” восстановилось у европейцев, если оно у них когда-то было(?!) Молчаливое созерцание — это род медитации, иногда светлой, иногда печальной, а иногда и той и другой вместе: печаль моя светла. Оно, как и всякое переживание представляет собой работу (ср.: З. Фрейд — “работа печали”), направленную на создание смыслов и значений (Ф. Е. Василюк, 1984). Они не всегда могут быть вербализованы, в том числе и потому, что слово нередко убивает впечатление и порождаемые им смыслы. По мере накопления опыта созерцания, душа как бы впадает в понимание, порождает “невербальное внутреннее слово” (выражение М. К. Мамардашвили), в котором фиксируются неотрефлексированные смыслы. Это и есть то, что превосходно выразил О. Мандельштам:
Быть может прежде губ уже родился шепот,
И в бездревесности кружилися листы,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты.
(“Восьмистишия”, № 7. 1933—1934 гг.)
Приводя строчки поэта о шепоте раньше губ, я вовсе не хочу сказать, что созерцание — медитация — переживание, равно как и формы искусства, побуждающие душу вновь впадать в эти состояния, — вовсе не рефлексивны или дорефлексивны. Возможно, что они представляют собой высшие формы рефлексии, которые сродни озарению, сатори, инсайту. Хотя они не столь очевидны, как, например, в танка. Пятистишия танка как ведущий жанр японской поэзии возникли лет на 1000 раньше хайку. В них рефлексия или “отсылка к рефлексии” даны более эксплицитно. А у Исикава Такубоку (конец XIX — начало XX в.) побуждение к рефлексии выражено уже очень отчетливо:
Застыли палочки в руке
И вдруг подумал я с испугом:
О, неужели, наконец,
К порядкам, заведенным в мире
Я тоже исподволь привык?
Или:
Бывают такие мысли:
Как будто на белый прозрачный мрамор
Льется весенний свет —
Возможно, порожденные многими поколениями созерцателей значения и смыслы стягиваются в один узел, а возможно, наряду с этим, образуют невидимую смысловую ауру, которая подобно облакам, окутывает, например, Фудзияму, создает вокруг нее духовную атмосферу. Подобное предположение с точки зрения современной психологии восприятия не может считаться ни строго доказанным, ни фантастическим. В его пользу говорит то, что образы реальности, равно как и визуализированные образы, образы-представления и образы-воображения, всегда как бы выносится наружу, локализуются во внешнем пространстве. Возможно, они оставляют в этом пространстве свои следы, которые, накапливаясь, создают духовную ауру или духовную атмосферу. Представим себе, что речь идет о восприятии Фудзиямы многими поколениями японцев. Как будто бы об этой ситуации написал Мих. Кузьмин:
Но взгляд очей раскосых
На ней запечатлен.
В “Путешествии в Армению” О. Мандельштам пишет: “я в себе выработал шестое — “араратское” чувство: чувство притяжения горой”. Такое шестое чувство притяжения Фудзиямой издавна выработали в себе японцы, и она стала соприродной им (или они ей!). В. В. Кандинский говорил, что дух может быть познан только чувством или чувствующей душой, соприродной ему. Значит, увидеть духовную атмосферу нельзя, но вдохнуть, почувствовать и проникнуть в нее можно. Если моя фантазия правдоподобна, то Катсусико Хокусаи, он же Такуо Родзин — старик, одержимый рисунком, — благодаря накопленному им избытку видения, не только почувствовал, но и увидел эту смысловую, духовную ауру. Хотя подобное кажется невероятным, но О. Мандельштам предполагал, а может быть на себе испытал такую возможность:
Духовное — доступно взорам,
И очертания живут.
(1909 г.)
Хокусаи не только ее увидел, но и замечательно изобразил. Рискну предположить, что художник даже сделал намек на то, как ему это удалось и как смотреть его картины. Макс Вебер как-то сказал, что человек живет в паутине смыслов, которую он сам же сплел, — добавлю: и сквозь которую он смотрит на мир. Может быть именно это имел в виду Хокусаи, рисуя “Фудзи сквозь паутину” (рис. 5). Так или иначе, но в картинах художника его соотечественники узнают не только предмет своего поклонения, но и порожденную многими поколениями духовную ауру. В картинах Хокусаи, как и в хайку Басё, японцы узнают не только знакомую им гору, или старый пруд, лягушку, стрекозу, муравья, сверчка..., но и самих себя, работу своей собственной души. Я не могу как следует объяснить восхищающую меня многовековую практику японского эстетического воспитания, но предполагаю, что подобный опыт созерцания — медитации создает невиданную в традиционной Европе общность контекстов поэта и читателя, художника и зрителя. Поэт и художник задают японской душе темы для медитации, опыт которой она уже имеет. Современный японский исследователь Нома Сэйроку пишет: “На первый взгляд, небольшое количество туши на листе белой бумаги кажется простым и скучным, но по мере пристального всматривания оно трансформируется в образ природы — маленькую частицу этого мира, видимую вроде бы смутно, как в тумане, но частицу, которая может увести дух зрителя к величественному целому”.
Нужно было обладать немалой дерзостью, чтобы изобразить гору подставкой для Солнца. Здесь в одной точке встречаются (или сливаются?!) пространство и время и сталкиваются два образа, рождающие или, как минимум, опредмечивающие смысл страны Восходящего Солнца (рис. 6). Поэтому-то и Хокусаи в сознании японцев стал символом, как и стократно изображенная им гора Фудзи.

Рис. 5. К. Хокусай “Фудзи сквозь паутину”

Рис. 6. К. Хокусай “Фудзи как подставка для солнца”
Значит, человек, его сознание, как и произведение искусства, подобны символу. Узнать и понять человека можно (если можно?) только целиком. Шанс узнать и понять невидимое и таинственное состоит в том, что при всей своей невидимости, внутреннее прорывается во вне, его можно скрывать лишь до поры до времени. Оно прорывается даже против воли своего носителя. К тому же, — как заметил Г. Г. Шпет, — нет ни одного атома внутреннего без внешнего. Автономность внешних и внутренних форм весьма относительна. Они не только взаимодействуют одна с другой, но и взаимоопределяют друг друга, связаны отношениями взаимного порождения. Внешнее рождается внутри, а внутреннее рождается вовне. Высокий ли, низкий ли внутренний человек не может появиться без активности, поведения и деятельности человека внешнего. Внешний человек, лишенный внутренней формы, вообще перестает быть человеком. В психологии отношения взаимного порождения внешней и внутренней форм обозначаются понятиями интериоризации и экстериоризации. Экстериоризация есть более или менее совершенное воплощение внутренней формы. Оба процесса (акта) идут навстречу один другому. Они синергичны и невозможны один без другого. Их встреча обеспечивает объективацию субъективного и субъективацию объективного.
6. Пограничье и проницаемость души
Что же является источником внутренней формы человека? Нельзя ли его представить более конкретно? Моя гипотеза состоит в том, что человек по мере активного, деятельного и созерцательного проникновения во внутреннюю форму слова, символа, другого человека, произведения искусства, природы, в том числе и своей собственной, строит свою внутреннюю форму, расширяет внутреннее пространство своей души. Еще раз подчеркну, что мифологическое и символическое понимание мира подготовило представление о нем как о едином существе, имеющем внешние и внутренние формы, и такое же представление о человеке, об искусстве, о языке. Именно в этом смысле мир соприроден человеку, человек соприроден миру. Можно считать, что это еще одна — символическая размерность введенного космологами антропного принципа устройства мира. Согласно ему, дружественный Универсум поддерживает жизнь, в том числе и человеческую!
Итак, сказанное до сих можно резюмировать следующим образом. Создаваемые человеком в процессе развития внешняя и внутренняя формы представляют собой пространство, в котором может находиться душа. Или она сама является пространством, в котором создаются эти формы? Внутренняя форма сама по себе лишь потенциально является пространством души. Это пространство активно, энергийно, его внутренний избыток стремится наружу, чтобы реализовать себя и таким образом влияет на внешние формы активности, поведения и деятельности своего носителя. Прорываясь вовне, внутренняя форма становится внешней, а следовательно, может быть предъявлена, дарована другому человеку. Именно в этом смысле душа не может погибнуть: она переходит к другому. Конечно, при условии, что этот дар будет принят в себя другим, а если последний к тому же обладает благодарной памятью, душа сохраняет авторство. На рис. 7 Ж. Эффель шутливо представил акт дарения Богом души человеку. При этом Бог комментирует: “Дадим ему душу взаймы — пусть не забудет вернуть”. Можно было бы добавить — и подарить другому. Душа — это удивительный дар, который от дарения не скудеет, а увеличивается: чем больше даришь, тем больше тебе остается. Поэтому душевно щедрый человек вернет Богу душу большую, чем получил от него.

Рис. 7. Ж. Эффель “Душу даем взаймы”
Если вспомнить тезис об обратимости внешней и внутренней форм, то можно предположить, что душу человека следует рассматривать как нечто объемлющее внешнюю, и внутреннюю формы. Или, по крайней мере, как то, что может ими распоряжаться. Кажется, Томас Элиот сказал: то, что впереди нас, и то, что позади нас, ничто по сравнению с тем, что внутри нас. Другими словами, в каждом человеке имеются археологические, если угодно, — по Карлу Юнгу, — архетипические пласты, виртуальные внутренние формы поведения и деятельности, о которых речь шла выше. Все они труднодоступны не только постороннему наблюдателю, но и их носителю. Бывает, что все это богатство, как вода сковано льдом. Душа раскрывает недра, — сказал О. Мандельштам, — и таким образом позволяет им обнаруживать себя.
Есть еще одна давняя, красива, романтическая идея Новалиса. Он нашел место души на границе между внешним и внутренним (понятии внешней и внутренней формы Новалис не использовал). Именно в точках их взаимодействия и взаимопроникновения разворачивается жизнь нашей души. Само собой разумеется, что внешние и внутренние формы различаются одна от другой, неравны друг другу, и это различие создает как бы разность потенциалов. Возможно, душа, находящаяся между ними, ощущает (сознает) неравенство внешней и внутренней формы и тем самым выступает источником идей, чувств, действий, в конце концов, источником и движущей силой развития. Вспомним также о неравновесности, асимметричности избытка недостатка и избытка возможностей. Сильная душа трансформирует разрушительную (отрицательную) энергию, порождаемую избытком недостатка, в энергию положительную, в энергию созидания и достижений.
Ранее говорилось о пространстве “между” т. е. о пространстве между людьми, в котором также протекает жизнь нашей души. Есть еще одна граница, о которой говорил Э. Фромм: “Душа это переход и поэтому ее нужно рассматривать в двух аспектах. С одной стороны, она дает образ, составленный из обрывков и слепков всех прошлых событий. С другой — набрасывает в том образе контуры будущих событий, поскольку душа сама создает свое будущее” (1992, с. 222). Другими словами, бодрствующая душа всегда находится на грани, на пороге преобразования. Состояние души не только мерило времени, но и его создатель. Она похожа на безумную компасную стрелку, о которой писал О. Мандельштам в “Разговоре о Данте”: “дрожащая компасная стрелка не только потакает магнитной буре, но и сама ее делает” (1987. с. 114).
Итак, существует, как минимум, три пространства “между” или три границы, на которых располагается душа: между людьми; между внешней и внутренней формами самого человека; между прошлым и будущим. Она выполняет огромную работу, связывая их друг с другом. Я пока не готов обсуждать, какое из указанных пространств играет наибольшую роль в ее воспитании. Но сама по себе идея пограничья заслуживает самого пристального внимания. М. М. Бахтин писал о том, что культура не имеет собственной замкнутой в себе территории: она располагается на границах. “Внутренней территории у культурной области нет. Она вся расположена на границах, границы проходят всюду, через каждый момент её, систематическое единство культуры уходит в атомы культурной жизни, как солнце отражаются в каждой капле ее. Каждый культурный акт существенно живет на границах: в этом ее серьезность и значительность; отвлеченный от границ, он теряет почву, становится пустым, заносчивым и умирает” (1974, с. 266). Не так ли обстоит дело с душой? Замкнувшись исключительно на себе или в себе, она деградирует.
7. Пространство и время души
Пограничье и проницаемость границ — в этом тайна и ее разгадка, к которой подходил Б. Пастернак:
Перегородок тонкоребрость
Пройду насквозь, пройду, как свет.
Пройду как образ входит в образ
И как предмет сечет предмет.
(“Волны”. 1930—1931 гг.)
Это одинаково справедливо и для культуры, и для души. Идея пограничья души не противоречит тому, что душа может быть высокой и низкой, большой и малой, широкой (так обычно характеризуется русская душа) и узкой, даже тесной. Поэты говорят, что душа имеет свои пределы: пределы души, пределы тоски. Значит, при всем своем пограничьи, душа имеет и свое пространство, но пространство совершенно особое:
Пространство, пространство,
Ты нынче — глухая стена!
М. Цветаева. (“Хвала времени” 1923 г.)
Но ведь стена, будучи виртуальным сооружением поэта, — это та же граница! И она же пространство. (Между прочим, вполне реальные стены — китайская, кремлевская, берлинская — стали символами пространства. Не буду обсуждать какого.) Пространство души, ее чертоги нельзя измерить метрическими и даже топологическими категориями, хотя свою топологию душа, видимо, имеет. Однако, топология души не единственная, а множественная, то есть топология не сциентистская, а гуманитарная, предполагающая даже взаимную обратимость пространства и времени. В ее свете граница (стена) может быть и пространством, а точка может быть представлена как многомерное пространство. Последнее, в свою очередь, может свернуться в точку:
... И вы, часов кремлевские бои, —
Язык пространства, сжатого до точки...
О. Мандельштам. 1935.
Топология пространства и времени души — предмет, о котором увлекательно размышлял философ М. К. Мамардашвили, анализировавший “В поисках утраченного времени” М. Пруста.
Марина Цветаева пишет о глубоком часе души в глубокой ночи. Она наделяет Час Души самыми разными качествами, качествами света, тьмы, чувствами радости, печали, ощущениями жизни и смерти:
Час Души — это час Луны, час мглы, час тьмы, час струны, час Беды, даже — час ножа. Поэт взывает к ребенку, чтобы он не пропустил этот час:
Дитя, и час сей — бьет...
Дитя, и час сей — благ.
Час Души — это час свершений, час роста души:
Гигантский шаг души,
Души в ночи.
(“Час души”. 1923)
Пропустить свой час, действительно, опасно, о чем предупреждает Р. М. Рильке:
Тебя, как нитку новую, вдевали
в чреду картин, где ты очнулся в срок,
но быть самим собой уже не мог.
(“Детство”. 1907)
Конечно, задача (и забота) воспитания души сильно бы упростилась, если бы мы могли сколько-нибудь точно определить и предсказать такой час или миг, который является фиксированной точкой предельной жизненной интенсивности, точкой события и моментальной навек грозы. Мамардашвили называл ее “Punctum Cartesianum”:
Мгновенье длится этот миг,
Но он и вечность бы затмил.
Б. Пастернак
Как говорил Акутагава (см. выше), в такой миг может быть разбита или ... приобретена столетняя печаль. Постфактум подобная точка (час, миг, мгновенье) приобретают символическое значение, накладывают свою печать на развивающуюся душу: Моя душа мгновений след... (М. Цветаева). К сожалению (или к счастью), для раскрытия души далеко не все из них являются цветущими мгновениями (О. Мандельштам). Так или иначе, но в фиксированной точке интенсивности сходятся все три цвета времени: прошлое, настоящее и будущее. Каждая из них, если она случается, представляет собой вечное мгновение или — элементарную, виртуальную единицу вечности, без которой не могла бы возникнуть идея вечности как таковой. (Зинченко В. П., 1997). Пространство и время души — это предмет особых размышлений об увлекательной и бесконечной области хронотопии (от хронос и топос) сознательной и бессознательной жизни человека. Ограничусь еще одним обращением к авторитету Мацуо Басё, который в беседе с учеником Кёрай говорил, что истинная красота рождается, когда время и пространство встречаются в одной точке:
Об уходящей весне
Сожалею
Вместе с жителями Оми.
Вспомним еще раз — “Фудзи — подставка для Солнца”. У Б. Пастернака в стихотворении “Анне Ахматовой” встречаются два времени. Их пересечение символизирует вполне определенное пространство — Петербург:
Бывает глаз по-разному остер,
По-разному бывает образ точен.
Но самой страшной крепости раствор —
Ночная даль под взглядом белой ночи.
Подобные точки, если воспользоваться космологическими гипотезами, можно представить как конформный пространственно-временной интервал, т. е. тот же хронотоп. В таком интервале, с точки зрения космологов, возникает и сохраняется световой конус (Пригожий И., 1997, с. 155). Не буду вдаваться в оценку энергетической роли конформного интервала и светового конуса в возникновении Вселенной и ее вещества. Хочу лишь сказать, что световой конус это замечательная метафора Часа Души, человеческих состояний молниеносного озарения пониманием, сатори, инсайта, вызывающих бурный прилив духовной энергии, выливающейся во вдохновение, творчество, в создание своей собственной Вселенной. Последняя может включать в себя множество миров, которые в разной степени осознаются, выражаются вовне. Особая работа — овладения ими: Я — создатель миров моих, — сказал О. Мандельштам. Его “дуговая растяжка”, “трансцендентальный привод”, “зарядка бытия”, “событие и гроза” — все это поэтические аналоги конформного интервала и светового конуса. В этом же ряду стоят размышления Ю. М. Лотмана о культуре и взрыве. Все приведенные метафоры свидетельствуют об одном и том же. Трата духовной энергии есть одновременно ее приращение, обеспечивающее рост души.
Встречи пространства и времени в точке или в конформном интервале (хронотопе) рождают не только красоту, но и определяют судьбу человека. Как сказал И. Бродский: И географии примесь к времени есть судьба. Обыденное сознание говорит об этом же проще: “Нужно суметь оказаться в нужном месте в нужное время”. Конечно, лучше быть хозяином своей судьбы и самому содействовать появлению конформных пространственно-временных интервалов, а не ожидать их как “дара небес”. Так или иначе, но непременным условием роста и обогащения человеческой души, приобретения ею новых сил являются события и поступки, после совершения которых, например,
Одиссей возвратился,
пространством и временем полный.
О. Мандельштам. 1917 г.
Возвращаясь к теме воспитания души, скажу, что гигантским шагам души должны предшествовать малые шаги — шаги со-присутствия, со-действия, со-чувствия, со-переживания, со-страдания, со-участия, со-причастия, вчувствования в сокровенное, которое есть в людях, в природе, в произведениях искусства и даже в вещах, в утвари. А свое сокровенное нужно стараться представлять (ставить перед собой) себе и задумываться о нем. Совершая такие шаги, впадая в состояние понимания мира, другого человека, произведения искусства, самой себя душа будет расти и крепнуть.
Вместо заключения
Незаметно для себя я исчерпал лимит времени и пространства, выделенный для доклада. Мне удалось удержаться от попыток определить, что такое душа. Психологи должны вначале признать ее существование, ее объективность, а потом уже строить догадки о том, что это такое! В представленном выше тексте обосновывается идея пограничья души, ее способности к всепроницаемости времени (прошлого и будущего), пространства (внешнего и внутреннего) и межчеловеческих отношений. Душа, как и сознание в трактовке М. М. Бахтина, диалогична и полифонична. Она способна к развитию и расширению опыта.
На мой взгляд, идея пограничья полезна для поиска путей воспитания души.
В устном докладе был предложен ряд иллюстраций к положениям, сформулированным в тексте. Главная из них двойная спираль — геном культурного и духовного развития человека (рис. 8). Такое развитие можно рассматривать как необходимый контекст, в котором протекает развитие и воспитание души. Двойная спираль имеет семь ступеней, узлов, витков, в которых мгновение за мгновением (каждое из них — вечное мгновение), “от одного глубочайшего к другому” наращивается опыт души. В схеме ГЕНома культурного развития один виток находит на другой, на ту же ось, образуя пагодообразную модель. Разные слои пронизаны одной и той же вертикалью духовного развития. У В. В. Кандинского — это духовный треугольник или духовная пирамида развития. Развитие начинается с живого движения. Поучительно, что иероглиф гэн  обозначает и ген и движение. Полный цикл развития проходит семь ступеней. Его вершина — человек духовный. Столь же поучительно, что иероглиф касанэру
обозначает и ген и движение. Полный цикл развития проходит семь ступеней. Его вершина — человек духовный. Столь же поучительно, что иероглиф касанэру  , обозначающий развитие, также имеет семь витков, пронизанных одной вертикалью. Хотелось бы надеяться, что эти совпадения не случайны.
, обозначающий развитие, также имеет семь витков, пронизанных одной вертикалью. Хотелось бы надеяться, что эти совпадения не случайны.
***
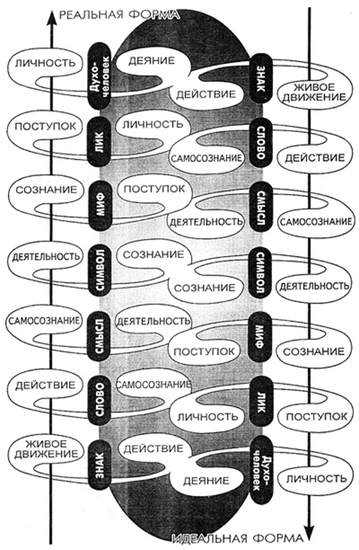
Рис. 8. Двойная спираль развития
Литература
- Бахтин М. М. К эстетике слова // Контекст. М., 1974.
- Бахтин М. М. Работы 20-х годов. Киев, 1994.
- Василюк Ф. Е. Психология переживания. М., 1984.
- Гегель. Сочинения, т. 1. М. — Л., 1929.
- Григорьева Т. П. Дао и логос (встреча культур). М, 1992.
- Денике Б. П. Японская цветная гравюра. М., 1936.
- Зинченко В. П. Развитие зрения в контексте перспектив общего духовного развития человека // Вопросы психологии, 1998, № 6.
- Зинченко В. П. Посох О. Мандельштама и трубка М. Мамардашвили. М., 1997.
- Зинченко В. П. Мысль и слово Густава Шпета. М., 2000.
- Имамичи Т. Моральный кризис и метотехнические проблемы // Вопросы философии. 1995, № 3.
- Кандинский В. В. О духовном в искусстве. М, 1992.
- Кирквуд К. Ренессанс в Японии. М., 1988.
- Мамардашвили М. К. Психологическая топология пути. СПб., 1997.
- Мандельштам О. Слово и культура. М., 1987.
- Михайлов Ф. Т. Фантазия — главная сила души человека // Э. В. Ильенков. Личность и творчество. М., 1999.
- Пригов Д. А. Только моя Япония. М., 2000.
- Пригожин И. Конец определенности. М., 1997.
- Скаккабароцци Л. О Михаиле Гефтере или об агонии историзма // Век XX и мир, 1966, № 2.
- Ухтомский А. А. Избранные труды. Л., 1978.
- Фромм Э. Душа человека. М, 1992.
Сноски
Сноски к стр. 3
* Настоящий текст представляет собой расширенную версию доклада на Международном симпозиуме “Духовность детства”, состоявшемся в г. Мачида (Япония) 21—22 августа, 2001 г. Автор выражает искреннюю признательность Президенту Японской ассоциации нравственного воспитания детей г-ну Ота Акио за многолетнее сотрудничество, а также г-же Марико Мабетани за перевод текста на японский язык.
Электронная версия произведения предназначена для использования в образовательных и научных целях.
Статья в Электронной библиотеке МГППУ





