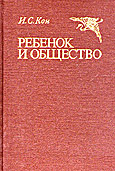Книги
Тип книги: монография
|
|
Книга представляет собой теоретико-методологический анализ современного состояния этнографии и истории детства. Сопоставляя понятийный аппарат и фактические данные этнографии, истории, социологии и психологии, автор анализирует природу возрастных категорий, соотношение целей и средств воспитания, половые различия и особенности социализации мальчиков и девочек, специфику родительских чувств и отношений и взаимодействие отцовских и материнских функций в разных обществах Востока и Запада.
Смотрите также:
Книги
Книги
- Детство и общество
СПб.: ИТД «Летний сад» 2000. – 416 с./ Пер. с англ. Изд. 2-е, перераб. и дополн. - Культура и мир детства. Избранные произведения
М.: Наука , 1988.- 429 с., ил. / Пep. с англ. и коммент. Ю. А. Асеева. Сост. и послесловие И. С. Кона.
Мы не можем предоставить возможность скачать книгу в электронном виде.
Информируем Вас, что часть полнотекстовой литературы по психолого-педагогической тематике содержится в электронной библиотеке МГППУ по адресу http://psychlib.ru. В случае, если публикация находится в открытом доступе, то регистрация не требуется. Часть книг, статей, методических пособий, диссертаций будут доступны после регистрации на сайте библиотеки.
Электронные версии произведений предназначены для использования в образовательных и научных целях.